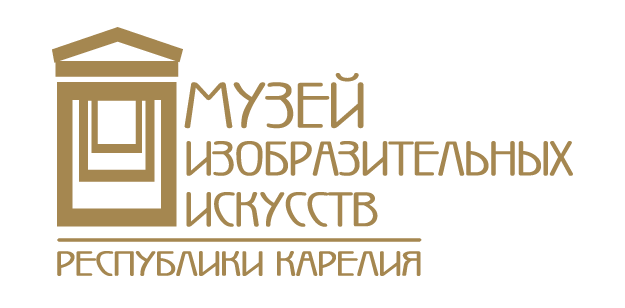27 января Россия отмечает 75 годовщину снятия блокады Ленинграда.
Карельская художница Екатерина Пехова пережила блокаду. Предлагаем вам прочитать её воспоминания об этих страшных днях. Воспоминания о блокаде и о мирной довоенной жизни соединились и в триптихе Е.Пеховой, который находится в Фондах музея ИЗО РК.
Отрывки из книги «Народный художник Карелии. Екатерина Пехова» (Инсан. Москва. 2008), из главы «О ленинградской блокаде»:
«Я была ребенком и не помню особой тревоги на нашем Кировском проспекте в первый месяц войны. Все время светило солнце. Помню 3-е июля — собралась огромная толпа слушать Сталина. Громкоговоритель висел на Кировском недалеко от нашей улицы. Когда раздалось «братья и сестры». все заплакали — сказано это было проникновенно и трагично. разошлась толпа успокоенной — Сталин сказал, что враг будет разбит, значит, враг будет разбит».
«Трудно было их (мебель — прим.ред.) пилить, ломать, двигать. Это был нечеловеческий труд, но самое легкое, что можно было сжечь — книги — мы не сожгли ни одной. Книги нас и спасли — мы были потомственными книжниками. Мы все время читали. Я не расставалась с карандашом — рисовала и рисовала все, что было в моем недолгом лучезарном детстве. Это и есть тема моего блокадного триптиха — то, что было до войны — по левую и правую сторону, и в центре — мрачное сегодня.
Сейчас, когда я стала старухой и детство придвинулось ко мне, я вспоминаю и вижу — почти постоянно топится буржуйка, раскаленная труба, постоянно кипит закопченный чайник, и мы с эмалированными кружками, полными кипятка, в руках (в эмалированных дольше держится тепло). На буржуйке три раза в день сушится хлеб, который отец не давал нам с мамой съесть сразу, а делил на микроскопические 3 доли — на утро, день и вечер. Это тоже нас спасло.»
«Меня на улицу одну не выпускали — боялись людоедства, что оно было и в большом количестве — не секрет.»
«Вымерла семья Дыкас у нас за стеной ванной (во время блокады семья Е.Пеховой обосновалась в большой ванной комнате своей огромной квартиры в особняке Шаляпина, остальные комнаты постепенно заселялись беженцами и погорельцами — прим.ред.). Осенью и в начале зимы мы все время слышали музыку, сидя вокруг буржуйки, — касы были музыканты. Мать — преподавательница Консерватории, 2 сына — скрипач и виолончелист. Какая великолепная музыка звучала! Вначале замолкла скрипка, потом — виолончель, все реже и реже слышался рояль. мы поняли — они все умерли».
«Меня раздражает, когда говорят «великий подвиг ленинградцев». Эту фразу и последующие слюни на эту тему придумали и вели в обиход резвые представители второй древнейшей профессии. Мы просто были загнаны в мышеловку.»
«Потом настала весна, обнажились трупы, их никто не убирал, просто спокойно переступали через них. Один труп лежал долго-долго, поперек тротуара. (…) Показывали на старуху из соседнего с нами дома, которая ходила всегда с дочерью — они съели всю свою большую семью, начиная с грудного ребенка. Голодное безумие, вот как это называется. У моего отца выпали все зубы, все до единого, у меня и мамы расшатались. Волосы у меня наполовину вылезли. до войны были толстенные косы — остались крысиные хвостики.»
«Это была уже вторая эвакуация, первая была в самом начале войны и кончилась плачевно — возвратом в Ленинград. Наше умное командование послало детей (огромное количество) по направлению к Старой Руссе. Мы успели только переночевать одну ночь на месте, в которое прибыли, как вынуждены были панически бежать обратно — пёрли немцы. Наш путь назад — это была целая эпопея. По бомбами на каких-то поездах, пересаживаясь с поезда на поезд, крики, плач, погибшие дети, на моих глазах у маленького ребенка не оказалось головы. (…) Что это, разве не преступление нашего командования, они что, не знали, откуда идет немец!? Сколько детей погибло. Это были не дети-сироты, о которых некому плакать, их матери были мобилизованы на рытье окопов».
«Мы остались без ничего (после эвакуации в Ташкент — прим.ред.). Отец уехал на Варзобстрой, мы с мамой не смогли делить хлеб на три части, у нас не было родных стен, родных книг, и мама, получив удар в голову огромным булыжником (со словами «получай, жидовка!») умерла. Я, прибавив себе года, работала на военном заводе. Потом за мной приехал отец и увез в Таджикистан. Онс тал получать большой ученый паек. Там я ела, ела, постоянно ела и не могла наесться. В 45-ом году я одна вернулась в Ленинград. Я не могла больше выносить тоску по родной природе, по родному городу».